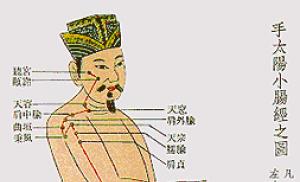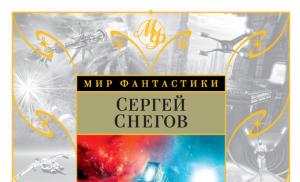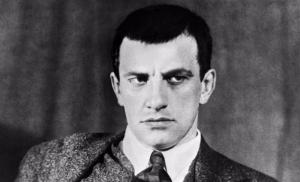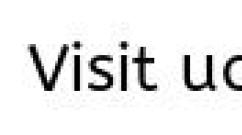Наталья Сухинина: «В моих книгах все – правда. Хорошие люди натальи сухининой – Обычно люди боятся одиночества…
Наталия Евгеньевна Сухинина
ГДЕ ЖИВУТ СЧАСТЛИВЫЕ?
рассказы и очерки
Предисловие
ПРАВОСЛАВНОЕ ВИДЕНИЕМИРА
Русские люди -православные. А кто не православный, в том русскость его становитсясомнительной. Для многих это уже общее место со времён Достоевского. Но чтозначит - быть православным? Не с рождением же это даётся. Нет, Православиюнеобходимо учиться, в Православии воспитываться. А как?
Разумеется, в церковьходить: кто ставит себя вне храма, тот и вне веры неизбежно - кому Церковь немать, тому Бог не отец. Это опять-таки давно стало бесспорным, хотя и не длявсех, так что повторять и повторять несомненное время от времени полезно.Обязательно читать Священное Писание, проверяя себя святоотеческой мудростью,ибо своим разумением до таких ересей можно дочитаться, что лучше бы тех книг ив руки не брать. Надобно постигать вероучительные основы Православия,догматические истины. Нужно, наконец, стараться жить по заповедям, что весьманепросто.
Однако в следованиивсему этому нас подстерегает опасность превращения необходимого во внешнее,формальное, не завладевающее всею полнотою нашего бытия. Можно статьначётчиком, гордецом-фарисеем - а от того мало пользы будет. Ведь фарисей былвесьма благочестив, исполняя даже более требуемого, и тем не менее Самим СыномБожиим был поставлен ниже грешника-мытаря.
Чтобы принять в себяистины Православия, потребно, помимо всего прочего, усвоить их черезсобственный жизненный опыт - тогда они станут не внешней догмой, но ориентирамина пути к спасению. Почему согрешили наши прародители? Потому что не имелиопыта бытия вне Бога. Собственно, наказание их было великим благом, научением,промыслительно данным для всего человечества ради обретения ценнейшего опыта,без которого невозможно быть твёрдым в следовании воле Божией. (Не всем тотопыт пошёл на пользу, но это уже иная тема.)
Однако собственнымопытом всей многосложности жизни - не постигнуть. Слишком необъятно инеобозримо море житейское для одного человека. Но ведь можно использовать воблаго себе и духовный опыт ближних, как добрый, так и отрицательный. Поэтомувеликое дело делают те, кто собирает такой опыт по крупицам и делает еговсеобщим достоянием. Особенно ценно, если всё собранное получает православное,то есть истинное, освещение и толкование.
Признаюсь, всегда сбольшой опаской берусь я за чтение работ, в которых автор ставит для себяименно такую цель. Ибо нередко православность понимается внешне: кажется, стоитпоминать имя Божие, благочестиво умиляться - и достаточно. А выходитманерность, сюсюкание, фальшивое благочестие, слащавая экзальтация, нарочитаяприторность. Православие же именно этого не терпит, закатывание глаз икартинные позы ему противопоказаны. Те сочинения, где словечка в простоте несказано, а всё с «благочестивой» ужимкой, делу только вредят, отторгая от себядуши, не терпящие фальши.
Книга Наталии Сухининойвсякому, кто неравнодушно прочитает её, даст много полезного, необходимого дляобогащения собственного опыта, поскольку она предлагает строгое, трезвое,мужественное, порою жёсткое и одновременно мудрое, неподдельно доброе воззрениена жизнь. Здесь собран ценнейший опыт, раскрывающий не умозрительно, но наживых примерах - бытие с Богом и без Бога.
Су хинина учитПравославию. Не догматике, разумеется, и не церковным канонам - для того естьспециальные книги. Она учит православному постижению жизни на простых житейскихпримерах. А это-то читателю просто необходимо, поскольку житейский опытненавязчив, но доказательнее подчас самых рассудительных назиданий.
Кто, например, не знаетистины преподобного Серафима Саровского «стяжи дух мирен, и вокруг тысячиспасутся»? Можно долго и умно о том порассуждать. У Сухининой же этораскрывается на отрицательном примере, в узнаваемой всеми обыденной ситуации(рассказ «Последние цветы из нашего сада»): немирный дух, уныние - отравляютвсё вокруг себя, делают ближних несчастными, исполненными духа злобы. И нет ниодного поминания всуе Божиего имени, нет ссылки на Святых Отцов, носвятоотеческая мудрость «уныние есть услада дьявола » (святитель Тихон Задонский)слишком наглядна, чтобы в ней усомниться.
Пересказывать смысл всехрассказов нет нужды - их надо просто прочитать. Автор учит вглядываться влюдей, узревать за внешним внутреннюю суть характеров и поступков. И учитлюбви, которая начинается с сочувствия к даже самому непривлекательномучеловеку. Учит в смирении прощать, когда так трудно простить.
Каждый верующий знает:Бог помогает ему во всех жизненных обстоятельствах, в испытаниях, неурядицах.Нужно лишь с верою искать такой помощи. А если сомнения одолевают? Но вотпрочитайте о невыдуманных историях, случившихся в жизни самых обычных людей -это ли не живое свидетельство?
Читаешь книгу и невольноукрепляешься в убеждении: с верою жить хорошо и легко (не в обыденном смысле, ав духовном), без Бога - тягостно и безысходно. Русские люди издавна знали: безБога не до порога. И вот все эти Рассказы ещё одно подтверждение тому.
И невольно приходит наум одно побочное рассуждение, какое, вероятно, и не входило в расчёт автора:как преступно мыслят и ведут себя те, кто до сих пор воюет против веры, кто сненавистью отзывается о Православии. На что обрекают они человека, весь народ,пытаясь вбить всем в сознание свои удручающе вульгарные стереотипы осамодостаточности человека, о плюрализме, о потребительских идеалах? Те, ктобьётся в истерике, стоит завести речь о необходимости научить детей основамПравославия, обрекают народ на вырождение и гибель. Статистика пугающа: мы напервом месте по самоубийствам в молодёжной среде. И не надо обманывать себя: вбезверии, в безбожии это будет всё более усугубляться. Чего же добиваютсявоюющие с верой? Не ведают, что творят? Кто-то в собственном самодовольстве итупой самоуверенности и впрямь не ведает, а кто-то...
Человека ведёт по жизни,ограждая от падений (а мы тому нередко противимся - и падаем-таки),промыслительная воля Божия. Не следует, однако, полагать, будто эта простаямысль примитивно проста. Она как раз требует нередко подлинного подвига веры,потому что православные требования к человеку порою жёстко парадоксальны и науровне обыденного сознания неприемлемы. Своеобразным тестом для проверки нашейверы становится в этом смысле рассказ «Грустный флейтист у весёлой булочной».Всё существо наше противится тому выбору, какой смиренно сделали участникирассказанной истории, подчинившиеся воле старца. Но ведь духовная мудростьстарца есть лишь следствие не собственного произвола, а духовного постиженияПромысла. Противиться Промыслу - всегда обрекать себя на грядущую беду.Сказать-то легко, а поди попробуй, когда тебя самого коснётся. Мы ведь судимобо всём из своего ограниченного временного пространства, и всё нам кажется,будто лучше всех знаем, где наше благо. Промысл определяет всё по законамвечности, а из вечности, как ни мудри, всегда виднее. Не принимая этогоограниченным собственным рассудком, мы и обжигаемся, пребывая в недостаткеверы. А если принимаем, даже вопреки внутреннему своему протесту, - получаемто, на что и надежду, быть может, давно потеряли (рассказ «Платье навырост»).
Не наша задача, повторимвновь, перечислять все добрые уроки, какие можно вынести из чтения рассказовНаталии Сухининой. Кто прочитает - сам всё увидит и поймёт. Сказать женапоследок нужно о несомненных художественных достоинствах предлагаемой книги.Это очень важно: дурная форма может обессмыслить любое самое благое намерение.Сухинина же формой владеет умело, лаконично строит повествование, ёмкоподбирает самые точные и выразительные детали, чётко выстраивает композициюрассказа, верно выбирает нужную интонацию.
О мастерстве словесногорисунка можно судить хотя бы по такому отрывку (рассказ «Злая старуха сголубым, ридикюлем»):
«Была она маленькая,юркая, с мелким сморщенным личиком, глубоко посаженными глазами, которыеугольками жгли окружающий мир. Она быстро, походкой торопящегося, оченьделового человека, входила в церковные врата, важно крестилась на купола исеменила к входной двери. У двери делала ещё три низких поклона и входила подхрамовые своды. И- начиналась работа локтями. Локти были острые, сама онашустрая, потому и просаливалась быстро сквозь толпу. Вперёд к солее, по центру
Писатель Наталья Сухинина - одна из номинантов Патриаршей литературной премии. Герои произведений Сухининой - самые обычные реальные люди (у каждого есть прототип), с которыми, казалось бы, происходят порой невероятные вещи. Не внешние чудеса, а чудеса внутреннего перерождения...
В интервью Правмиру Наталья Евгеньевна рассказала о том, почему решила первый раз в жизни написать детскую книгу, почему ее в последнее время расстраивает происходящее в Прощеное воскресение, и на какую тему она никогда не станет писать...
- Сейчас популярно обсуждать, существует ли такое понятие, как православная литература?
Я не очень склонна думать, что это понятие существует, потому что мы же не называем, например, «православной литературой» «Капитанскую дочку» , верно? Хотя произведение проникнуто христианским, православным духом.
Если в художественном литературном произведении есть какой-то нравственный урок, если есть какие-то глубокие размышления о месте человека в жизни - наверное, это и есть то самое, что можно назвать православной литературой, но в глобальном смысле. По сути, а не по форме. Так что не нужно загонять все в какие-то рамки, пытаться отделить, подвести под какой-то параграф.
У нас же крайности, появляются православные кафе, православные парикмахерские, православные агентства недвижимости.
Хотя, казалось бы, везде, где работают честно и со страхом Божиим - это все православное дело. Так и в литературе: если писатель пишет со страхом Божиим, с понятием, что ему придется отвечать на суде Божием за каждое написанное слово - наверное, это и будет православная литература. А церковная тематика, внешние атрибуты, указывающие на веру, здесь роли не играют.
- Есть темы, за которые вы никогда не возьметесь, как бы вам не хотелось?
У меня много лет назад милостью Божией появился духовный отец, архимандрит Георгий (Тертышников), Царствие ему Небесное. Я тогда работала в «Русском доме», и отец Георгий каждую мою заметку читал. Все, что у меня выходило - все выходило как бы по его благословению. Потому что я страшно боялась, что смогу где-то превысить свои полномочия.
И тогда он мне сказал: «Запомните: темы для вас не существует». То есть - не лезь туда, куда тебе не надо. И для меня это закон. Хотя вроде бы, можно все красиво написать: человек подходит к Чаше, горят свечи... Но - нельзя. Я никогда себе не позволю рассуждать о Причастии.
Вообще, рассуждать о нем - страшно. Единственное рассуждение - это благоговейное молчание.
И не объяснишь словами, даже детям, что такое Причастие. Это то, что понимается само. Мне, выросшей в атеистической семье, никто не объяснял, что такое Причастие. Но в один момент я поняла, сердцем, а не прочитав какие-то книги, объяснения. И, слава Богу, до сих пор понимаю.
Нужно благоговейно подходить к этой теме. Когда показывают православные фильмы, трансляции служб и демонстрируют происходящее в алтаре - я считаю это неправильным.
Даниил, родившийся на творческой встрече
Ваша новая книга, рассказывающая о житиях святых, - детская. Почему вы решили обратиться к непривычной для вас аудитории?
Была потребность взяться за детскую тему, но я долго боялась. Написав уже девять книг, решила, что десятую все-таки попробую сделать детскую. Хотя до сих пор страшно, она только недавно вышла, отзывов не так много.
- Когда писали эту книгу, что-то приходилось менять в подходе к работе?
Конечно. Все-таки это же жития святых. Самое трудное было - отобрать жития, потому что не все можно пока детям рассказывать: очень много в житиях показывается страшных мук, страданий, и детям может быть непонятно все это. Детей надо очень дозировано подводить к этому.
Ну, и мне приходилось не просто пересказывать жития на детском языке, а вводить маленьких читателей в книгу, делать рассказ занимательным. Авторский текст дает такую возможность. Например, если я повествую о святом праведном Прокопии, где будет речь и о падающих камнях, я сначала рассказываю, что у меня есть дома коллекция камушков, а среди этих камней есть особенный камень, который мне подарили в Великом Устюге. И далее - уже про святого Прокопия.

- Книга посвящена мальчику Даниилу. Кто это?
Однажды во время моего творческого вечера у одной женщины, сидящей в зале, начались роды. Ее увезли в роддом, и вскоре на свет появился мальчик Даниил. Когда ему было около двух лет, он уже собственными ножками пришел на мой творческий вечер вместе с мамой. Поднялся на сцену, серьезный такой малыш, при галстуке. И я ему при всех (там человек 500 было) дала обещание: «Выйдет у меня детская книжка, будет посвящена тебе». Вот теперь выполнила свое обещание.
- Все герои ваших произведений имеют реальные прототипы. А вы знаете их дальнейшую судьбу?
У меня есть рассказ «Время собирания смокв». Про человека, который сидел в тюрьме за убийство. В тюрьме он стал верующим, воцерковился.
За хорошее поведение ему дали отпуск, он во время этого отпуска приезжает в храм к батюшке, рассказывает (не на исповеди, естественно) свою историю. Батюшка поведал ее моему знакомому, тот не выдержав, рассказал мне. Мне сразу же захотелось написать о ней.
Я позвонила батюшке спросить позволения писать историю, которую он первым услышал, на что он ответил сначала: «А вы по какому праву собираетесь писать, вообще, кто вас благословил?» Я в ответ: «Батюшка, простите, не представилась. Но я пишу на православные темы».
Он спрашивает: «А ваша фамилия случайно не Сухинина?» Получив подтверждение, продолжил: «А вы знаете, что у меня для вас коробка конфет лежит уже год? Я, - говорит, - вам все хочу ее вручить за ваши книги». Тут я у понимаю, что у меня есть шанс. Говорю: «Батюшка, разрешите, пожалуйста!».
И он разрешил. А потом, позднее, я встретилась во дворе храма и с героем моего рассказа. Он тоже дал свое согласие и даже не пожелал, чтобы в книге было изменено имя: «Я хочу, чтобы за меня молились, вот как я есть».
Проходит полгода, звонок по телефону: «Вы помните, мы с вами сидели во дворе храма». Я говорю: «Конечно, прекрасно тебя помню. Ты что мне напоминаешь, я переживаю, как ты сейчас. Где ты сейчас?» Он говорит: «В монастыре. Но у меня нет благословения говорить, в каком». Я говорю: «Ну и не надо. Что ты там делаешь?» «Я, - отвечает, - трудник, на кухне работаю».
Через какое-то время он мне звонит вновь и рассказывает: «Наталья Евгеньевна, я вам сейчас что-то расскажу. Я работаю как-то на кухне, рыбу чищу, тяжело, царапает руки. И женщина, которая там заведует, стала меня ругать: «Что у тебя за руки, откуда растут? Ну, какой ты мужчина? Вот есть настоящие мужчины, я про одного в книжке читала». И начинает рассказывать описанную вами мою историю. Проходит какое-то время, она прибегает с выпученными глазами и говорит мне: «Мне чего сказали! Говорят, парень-то этот у нас в монастыре!»
Директор, вставшая на колени
Вспомните, пожалуйста, истории, которые не вошли еще в ваши книги и которые характеризуют современных людей.
Если говорить о хороших примерах, то их очень много. Я помню, когда мы стояли в очереди в , чтобы попрощаться с почившим . Стояли - часов пять. Это была просто прекрасная очередь, там все друг друга любили, все друг другу помогали. Развенчивая утверждения, внушения, что русские пропились, изуверились.
Я наблюдала такую картину: неподалеку от явно не бедного мужчины в кожаном пальто с огромным букетом роз стояла бедная бабушка. Она все время причитала, что не успеет, а ей нужно попасть на последнюю электричку, чтобы добраться домой, в другой город. И тогда этот мужчина сказал: «Бабуля, не переживай, поедешь ко мне, у меня переночуешь».
То есть вот это все хорошее есть в людях, и когда надо, оно пробуждается. Это наша генетика.
И таких моментов очень много. Мне пришлось много поездить, я была и на Севере. Глубинка такая далекая, что даже мобильник не берет. Поселок за Котласом, от которого еще ехать и ехать.
Мне рассказали о местной женщине - в прошлом директоре маслозавода. Будучи начальницей, вела себе с размахом: людей обижала, увольняла, делала с ними что хотела. Жила, естественно, безбедно.
И вот - пришла к Богу. Однажды прошла по всем домам, перед каждым человеком, обиженным ей, упала на колени и попросила прощения. Сейчас она печет просфоры в храме, я ее видела. Думаю, потом рассказ о ней написать.

- Что вам не нравится в современной жизни?
Меня очень беспокоит некая условность современной жизни. Молодежь говорит такое словечко - «типа». Вот у нас - типа веришь, типа любишь, типа семью заводишь. В этом есть некая фальшь. Жизнь придумана, и вот мы типа живем. Мы знаем, что есть какой-то набор жизненных условностей, и мы тратим силы на преодоление препятствий к этим условностям, чтобы иметь какой-то статус. Это «типа» меня больше всего беспокоит. Еще - ранит неискренность.
Я, к сожалению, с этим сталкиваюсь. Бывают случаи, когда я совершенно реально вижу, что меня используют в своих целях. И при этом все в какие-то такие слова упаковывается красивые, в уверения в дружбе. И я, как человек искренний, часто на это попадаюсь. И потом очень больно.
С другой стороны, как здесь быть? Никому не верить? Это другая крайность. А как понять сразу, кому верить, кому нет, я до сих пор не научилась, не знаю. Человеческая неискренность в отношениях меня очень беспокоит. Пусть уж лучше они будут плохими, но - открыто, искренне.
- Как какие ошибки, на ваш взгляд, допускают современные христиане?
Самое большое, что просто убивает - . Мы погрязли в этом фарисействе и сами прекрасно знаем об этом. В последнее время я просто устаю от того, что происходит в . Почти театр.
«Спаси Господи, прости». «Бог простит, и ты меня прости», - говорят друг другу чужие люди.
Или стою на исповеди в очереди. В чужом храме, вообще никого не знаю. И вот стоящая передо мной женщина поворачивается лицом ко мне, кланяется и говорит «Простите!» С какой стати? В чем ты передо мной виновата, я тебя вижу в первый и последний раз. Какие-то игры получаются...
Но когда надо попросить прощения у того, перед кем ты действительно виноват, оно и застревает.
- Самые интересные и значимые недавние встречи?
Ой, встреч так много, слава Тебе, Господи. Я много езжу, меня приглашают на встречи с читателями в разные уголки страны. И во время этих поездок вижу удивительную, прекрасную жизнь. Особенно глубинка наша - она хранит что-то важное, настоящее.
Из ярких недавних встреч могу назвать встречу с настоятельницей Никольского монастыря города Приволжска - игуменьей Анатолией. Для меня беседовать с ней, удивительно светлым человеком, стало настоящим праздником. Теперь я знаю, что она молится за меня, мне это дает силы...
А из тех встреч, которые состоялись давно и которые помогают идти по жизни - встреча с Александром Геннадьевичем Петрыниным, директором Центра психологической реабилитации и коррекции Хабаровска. Мы знакомы уже более 30 лет, и я радуюсь его успехам, радуюсь тому, что он все-таки еще имеет силы спасать «трудных» детей.
Для меня очень ценна его привычка среди огромной занятости, большого количества дел, позвонить, просто сказать: «Наталья Евгеньевна, я вас люблю», - и положить трубку. И я знаю, что мы вместе.
Я вообще счастлива в друзьях, которых очень люблю, и которые меня всегда готовы поддержать.
С известной православной писательницей Наталией Сухининой я познакомился в Кирове на Трифоновских чтениях. Наталию Евгеньевну пригласили на встречу с читателями, пожелавшими воочию лицезреть автора и побеседовать с ним. Московскую гостью поразили скромность и искренность, с которой к ней обращались вятские люди. Эти вопросы и позволили мне определить, что более всего интересует православного человека в жизни и творчестве православного литератора: жизненный путь, путь к Богу, судьбы героев произведений… Об этом и читайте в этом её рассказе.
Три месяца на дорогу к Богу
— Моя писательская деятельность выросла из журналистской работы. Крещена я в детстве, а к Богу по-настоящему пришла, будучи ещё корреспондентом газеты ЦК КПСС «Социалистическая индустрия». Как-то отправили меня в командировку… пешком в Иерусалим. Та командировка оказалась судьбоносной, всё перевернула в моей жизни. Тогда у меня имелась корочка, на которой золотыми буквами было оттиснуто: «Пресса ЦК КПСС». Господи, как же люди боялись этой корочки! Только от одного этого по молодому эгоизму можно было бы получать удовольствие — ведь от корреспондента в прямом смысле слова зависело будущее тех, с кем он встречался. В то время я ещё была совершенно неверующим человеком. Более того, у меня отец был секретарём обкома партии. Такие вот коммунистические корни, о которых и говорить-то стыдно. Были и амбиции — хотелось в журналистике сказать своё слово, что-то сделать такое, чего никто до меня не делал. И я приняла авантюрное решение — дойти пешком до Иерусалима. Одна, из Москвы. Где-то я слышала, что есть такая Святая Земля, прочитала про паломников, и меня очень поразило, что люди, преодолевая трудности пути в течение нескольких месяцев, а то и лет, доходили до стен Святого града и, остановившись перед ним, целовали землю и возвращались обратно, потому что считали себя недостойными войти в него.
И вот я прихожу к главному редактору и говорю ему, что хочу пешком пойти в Иерусалим. Думаю, он мне сейчас выговорит: «Наталья, куда ты собралась? Ты где, вообще, работаешь?» А он мне: «Давай!» Дал добро этой авантюре — ведь это ж как раз то, чего нигде не было и на чём можно было неплохо «засветиться».
И вот 18 июля 1990 года из Троице-Сергиевой лавры меня благословляет на Святую Землю Патриарх Алексий II. Он только-только был избран на патриарший престол, за несколько месяцев до этого. Я шла три месяца. Какие-то небольшие отрезки дороги ехала. Так добралась до Одессы, а там меня уже взяли на корабль, и морем я доплыла до Кипра, а оттуда 40 минут — на самолёте до Тель-Авива. С дороги я отправила в редакцию очень много публикаций, писала чуть ли не на коленке. И все знали, что я иду в Иерусалим по благословению Патриарха. Тогда уровень моей воцерковлённости был практически нулевым. Дома до сих пор висит фотография, где меня благословляет Патриарх, а я перед ним стою без платка. Эту фотографию я повесила перед глазами для своего же пристыжения: сколько раз пройду мимо, столько раз мне стыдно делается.
Шуму от этого моего паломничества было много. На телевидении делали передачи, организовывали встречи со мной. Сейчас я шучу, что всё своё тщеславие в полной мере я удовлетворила ещё тогда.
Но именно это путешествие стало решающим в моей жизни. Потому что, когда я шла, встречалась с настоящими православными людьми, со священниками, мне они очень импонировали, и сама я стала потихонечку воцерковляться. Очень многие замечательные сельские батюшки в штопаных подрясниках мне, благополучной журналистке, искренне завидовали, просили: «Будете на Святой Земле, помолитесь за нас». Давали очень много свечей, чтобы я поставила их перед Гробом Господним. У меня рюкзак всё тяжелел и тяжелел. Многие просили помолиться за своих больных родственников и близких. И уже в дороге я поняла всё лицемерие этой затеи: иду ко Гробу Господню, несу записки, а сама — неверующая. Но отступать было уже поздно. Во время путешествия мне было явлено очень много чудес, и это развернуло мою жизнь на 180 градусов.
Сразу же после путешествия я решила выйти из партии. А тогда это было сделать ещё сложно. И я собралась уйти из газеты, и вообще из журналистики, хотела продавать иконочки в храме. Но к тому времени у меня уже появился духовник, и он мне сказал: «Нет, ты лучше занимайся своим делом, а иконочки будут продавать другие». И вот с тех пор я, по милости Божией, занимаюсь своим делом. Стала писать рассказы для православных изданий, журналов «Русский Дом», «Православная беседа», «Марфа и Мария» и др. А журналистику вскоре оставила совсем.
Молитва за ближних до Афона доведёт
— Это путешествие переменило не только мою жизнь. Мой единственный сын, московский модный мальчик, буквально через несколько дней после моей молитвы у Гроба Господня ушёл из университета в монастырь. Он учился на филологическом факультете. Когда я уходила в Иерусалим, он был очень благополучным молодым человеком. В Иерусалиме я жила в Горнем монастыре, общалась с монахинями. Все вместе мы сидели вечерами, пили чай, я им рассказывала про Россию. Они очень долго не были на родине. И вот я им как-то высказала свою боль за сына. «Матушки, — говорю, — прошла я по России, увидела верующих людей и думаю: зачем мой сын на этот филфак поступил? Пошёл бы лучше в семинарию: как ведь хорошо служить Богу! Какая интересная жизнь у священников! Такие у них праздники!» А они мне говорят: «Ты же у Гроба Господня, пойди помолись Господу, попроси за сына». А я и молиться-то не умею. И вот пришла ко Гробу Господню и своими словами стала просить Господа, чтобы Он привёл сына к служению…
Возвратилась я из Иерусалима домой, и вдруг он заявляет мне, что хочет очень серьёзно поговорить. Я испугалась. Он только что пришёл из армии, три месяца был один в моё отсутствие, с ним что угодно могло произойти. Думаю: что же он мне сейчас скажет? А он говорит: «Знаешь, мама, я решил бросить филфак и поступать в семинарию». И он ушёл из университета. Работал разнорабочим в Даниловом монастыре, рыл там траншеи под трубы. Воцерковился, окончил семинарию, затем академию. Сейчас он — иеромонах Доримедонт, подвизается на Святой Горе Афон. Когда я работала главным редактором издательства «Святая Гора», он перевёл с греческого все пять томов старца Паисия. Греческому языку научился, уже будучи на Афоне.
Букет белых лилий старцу Паисию
Работа над изданием поучений старца Паисия была счастливым временем, удивительным периодом моей жизни. Даже не хотелось, чтобы заканчивалась эта работа. Но сейчас, видимо, она всё-таки завершится, потому что пять томов мы выпустили, а остальные уже не так интересны для русского читателя, потому что в них какие-то национальные вопросы поднимаются, про отношения Греции с Турцией и другие. Ещё мы выпустили отдельной книгой жизнеописание старца Паисия. Читаешь его на одном дыхании — словно живую воду пьёшь. Казалось бы, ну в чём там интрига? Ничего сверхъестественного нет, а такая благодать! Я сижу, редактирую, у меня слёзы от этой радости по щекам текут.
У старца от Бога было великое послушание — вымаливать больных раком. Очень многих он вымолил, можно сказать, вытащил с того света, потому что люди были обречены. Однажды к нему приехал мужчина и попросил: «Геронта, помолись о моей жене, она тяжело болеет раком!» «Давай молиться вместе» — «А как?» — «Помолись, чтобы её болезнь перешла на меня». Когда он увидел в глазах этого человека смущение, то спросил его: «Что, не можешь?» «Не могу». — «Тогда я сам помолюсь, чтоб Господь послал её болезнь на меня». И он вымолил себе рак — умер от этой страшной болезни. Понимаете?! Он в Греции почитается так же, как у нас в России преподобный Серафим Саровский. Хотя отец Паисий там ещё не прославлен. Он преставился недавно, в 1994 году, а в Греции, чтобы поднять вопрос о канонизации, надо после кончины подождать 60 лет.
До сегодняшнего дня я проработала восемь лет главным редактором в издательстве «Святая Гора». Старца Паисия мы считаем покровителем нашего издательства, восемь лет мы ему служили верой и правдой, и мне всегда хотелось съездить помолиться к нему на могилу. Два года назад я наконец-то собралась и поехала в Грецию.
Могилка у него вблизи Салоников, за городом. Я отправилась туда на такси. Приехала, помолилась, поплакала. Возвратилась в город и думаю: что же это я так далеко ехала к дорогому мне святому человеку и как-то не по-людски с ним встретилась; надо было приехать с букетом лилий. По-гречески я говорить не умею, села в машину, пытаюсь объяснить водителю, но он ничего не понимает. Тогда я ему рисую в блокнотике цветок, мол, цветы надо купить. Он понял. Привёз меня к магазинчику, где цветы продаются. Я выхожу, показываю продавщице, что мне надо купить вот эти лилии. Она что-то тараторит по-гречески — я в растерянности. И тут достаю фотографию старца Паисия и показываю, что цветы для него. Она: «О, Паисию, Паисию». Берёт ещё один букет и даёт мне, мол, это от меня отвези старцу. И я с этими двумя букетами вновь приехала на могилку. Конечно, это удивительный святой. Он наш, русский, все проблемы, о которых он говорит, мы с вами переживаем. Особенно в семейной жизни.
Продолжение иерусалимских встреч
— В Иерусалиме мне довелось побывать в церкви Марии Магдалины и приложиться к мощам Елизаветы Феодоровны. Этот храм — на территории монастыря Русской Православной Церкви Заграницей, в котором игуменьей была матушка Варвара. Тогда ещё РПЦ и РПЦЗ не дружили. Они были как «белая» и «красная» Церкви. И нельзя мне было, как паломнице, которая приехала в наш Горний монастырь, пойти в церковь Марии Магдалины. Но всё-таки втихаря на полденёчка меня туда пропустили. Матушка Варвара меня очень тепло встретила, провела по монастырю, мы с ней чаю попили. Родители её жили в России, потом эмигрировали. Она была дочерью казачьего атамана. Переехали в китайский Харбин, потом в Америку. Там она стала монахиней, оттуда была назначена игуменьей в Иерусалим. Её мама всю жизнь мечтала съездить с ней на родину, показать ей Россию. А когда состарилась и поняла, что уже не сможет поехать, наказала ей: «Ты должна увидеть Россию!» И дочь выполнила наказ, приехала в Москву. Прошло, наверное, лет десять после моего путешествия в Иерусалим. У меня дома в Москве раздался звонок. В трубке слышен старческий женский голос: «Здравствуйте, мне нужна Наталия Сухинина. Вы были у нас в монастыре, помните меня?» «Конечно, помню».
Так в семьдесят с лишним лет, на закате жизни, матушка Варвара решила всё-таки приехать в Россию. Перед этим она была на Украине, в монастырях Псковской и Новгородской областей. В журнале «Русский Дом» увидела мою заметку и через этот журнал вышла на меня. Мы встретились, она просила рассказать про Россию. Я ей много рассказывала. Она ещё хотела съездить на Соловки, в Сибирь. А у меня как раз на следующий день был взят билет на самолёт, я улетала в Сибирь по своим журналистским делам. «Ой, — говорю, — матушка, я завтра в Сибирь лечу». «А можно я с вами?» — «Можно». Мы купили билет, и даже места у нас оказались рядом.
Всё ей было интересно. Потом об этом нашем путешествии у меня вышел очерк в «Русском Доме» с фотографией матушки с подсолнухом, сделанной в Сибири. Удивительная была женщина. Общение с ней научило меня любить Россию, ценить, что мы здесь живём. Она всему удивлялась. Едем на машине: «Ой, кто это там на лошади? А что это там у него в корзине? Это же грибы. Давайте мы их купим». Такая восторженная, неземная! И после Сибири она ещё много путешествовала. Поехала во Владимирскую область, оттуда в Архангельск, на Соловки, потом в Петербург. Очень жаль, что где-то на дорогах Нижегородчины она попала в аварию. Батюшка, с которым она ехала, сразу погиб, а она долго лежала в больнице в Нижнем Новгороде, я ей звонила, потом она так и не выправилась. Больная уехала в Австралию, я её проводила, а вскоре мне сообщили, что она умерла. Какую-то операцию не перенесла.
Все мои сюжеты — из жизни
— Всё, что написано в моих книгах, — правда. Вот говорят, что писателю, чтобы что-то написать, нужно обладать даром воображения. У меня нет никакого воображения. Полностью отсутствует. Я никогда ничего не могу придумать, и мне это совершенно не нужно. Потому что жизнь так богата, так удивительна, в ней столько всего, что придумывать совершенно ничего не требуется. Дай Бог написать и использовать то, что ты знаешь, что случилось в твоей жизни, рассказать о своих удивительных встречах. Я много лет занималась журналистикой, много ездила по стране, встречалась с разными людьми. У меня до сих пор пухлые блокноты, которые ждут не дождутся, когда я к ним приступлю, всё опишу в каких-то новых произведениях.
И ещё: у меня очень много героев, с которыми сохраняются очень добрые, дружеские отношения. Общение с ними продолжается. Я всегда стараюсь поддерживать отношения с теми, о ком пишу. Это большой труд, тем более когда они проживают в других городах.
Вот, например, одна из последних книг — повесть о судьбах женщин из исправительной колонии в Самаре. Когда я начала работу над этой книгой, то в течение десяти дней, что провела в колонии, каждый Божий день ходила на встречи с заключёнными, с утра до вечера с глазу на глаз беседовала с женщинами. Конечно, я изменила их имена, но линии их жизни сохранила. Чем больше скорбь, тем ближе человек к Богу — эту мысль я пыталась провести, рассказывая о судьбах моих героинь.
В своей последней книге «Прощание славянки» я обратилась к теме войны. Когда я взялась за неё, меня никто из близких в этом начинании не поддержал. Все говорили, что читать о войне никто не будет. Те, кто воевал, не захотят ворошить свою боль, а молодым это не надо. Но мы с героем этой книги Виктором Георгиевичем Гладышевым, который ребёнком пережил войну, всё-таки дерзнули взяться за эту работу. Хотя в последний момент и он признался, что ему не нравится эта пустая затея, потому что молодёжь сейчас интересуют другие темы. И всё-таки книга в прошлом году вышла, а тираж её уже раскуплен. Сейчас мы будем его повторять.
После её выхода мы провели вечер встречи с Гладышевым, он состоялся в огромном зале, где больше половины собралось молодёжи: суворовцы, кадеты, ребята из училищ, старшеклассники. И я увидела, что им это нужно. Только говорить на эти темы следует деликатно, чтобы в каждом сердце подростка нашёлся уголок, куда свободно вошли бы воспоминания о войне.
Я посвятила эту книгу своему отцу, Царство ему Небесное, потому что папа у меня воевал. Он прошёл от Москвы до Берлина, я тоже про него здесь пишу. Но в основном эта книга про детей войны. Про то, как Господь их хранил в самых невероятных условиях. Вот только один случай. Главного героя Виктора Гладышева, которому было восемь лет, немец повёл на расстрел. В то время на оккупированных территориях действовал приказ: кто поднимет советскую листовку, того ждёт расстрел. И вот один немец увидел, как мальчик поднял листовку, и сразу же повёл его расстреливать. «Я, — вспоминает Виктор Георгиевич, — стою на горочке, вижу чёрное дуло, наставленное на меня, и не понимаю, что происходит: почему-то мои пальцы сами сложились для крестного знамения. Я стал креститься, просить Бога о спасении. Вдруг вижу, как этот немец заваливается на бок. Оказывается, в это время скотник дядя Ваня увидел, как меня повели на расстрел, подошёл сзади, сбил этого немца с ног и закричал мне: „Беги!“ Так он спас меня и сам остался жив…»
О белой вороне и невероятных совпадениях
— Недавно я закончила работу над новой книгой, которая будет называться «Белая ворона». Она о судьбе женщины, которая много металась по жизни, долго искала себя, претерпев много скорбей, потерь близких людей. И при этом она всё время выставляла претензии к Богу, спрашивала Его: «За что?» Но потом понемножку пришла к вере, поняла, где искать истину, где брать силы. Сейчас эта женщина в монастыре. Конечно, имя её я изменила. Вначале назвала Татьяной Ворониной. Воронина, потому что в школе её звали белой вороной. Но дело у меня не шло — не писалось, Татьяну я никак не чувствовала. Потом взяла и переименовала её в Наталью, и сразу же всё у меня изменилось. Более того, мне захотелось в эту книгу привнести какие-то события, которые со мной происходили, свои ощущения жизни.
Книга художественная, но там всё правда. Уж очень необычная жизнь у этой женщины, она очень много настрадалась, много раз была на краю гибели, но Господь постоянно хранил её. Когда она вышла замуж, то родила двойню — мальчика и девочку. Муж пришёл в роддом, чтобы её поздравить, а ему говорят, что его жена только что умерла. «Этого не может быть!» Он побежал по лестницам роддома в коридор, где лежало тело его жены, накрытое простынёй. Откинул простыню и увидел, как дрогнули ресницы. Он вынес её на улицу, остановил такси и отвёз жену в больницу. Там подошёл к какому-то врачу и говорит: «Спасите её!» Оказывается, у жены во время родов отказала почка. Почку удалили, и женщина потихонечку начала поправляться. Но когда в очередной раз муж пришёл её навестить, врач сказал: «Вашей жене осталось жить два дня, потому что отказывает и вторая почка. Готовьтесь к самому худшему, чудес не бывает». Этот бедный человек выходит на улицу, садится от бессилия на скамейку и слышит, что рядом на этой же скамейке рыдает женщина. «У вас закурить есть?» — спрашивает она. «Я не курю». Он видит, что у неё тоже какое-то большое горе, пошёл, попросил у прохожего сигарету, дал ей. Она закурила, успокоилась и говорит: «Мне сейчас сообщили, что только что погиб мой сын». «У меня тоже жена умирает». — «Что с вашей женой?» — «У неё отказывает единственная почка». — «Я отдам вам почку своего сына». Представляете! Они совпали в секундах, и эта женщина осталась жива благодаря этой донорской почке.
Когда мне кто-то говорит, что он неверующий, я всегда удивляюсь: «Какую же ты жизнь прожил? Неужели у тебя не было ни разу такого случая, после которого ты бы встал на колени и не сказал: „Господи, Ты всё можешь!“»
Сборникочерков и рассказов, основная тема которых - нравственный выбор. Между любовьюи ненавистью, между памятью и забвением, между добром и злом, между жизнью сБогом и - без Него... Герои рассказов Н. Е. Сухининой - люди, встреченные ею вовремя многочисленных творческих командировок в самых разных уголках России.
Наталья Сухинина
КУДА ПРОПАЛИ СНЕГИРИ?
Вместопредисловия
Впредисловии профессора Михаила Михайловича Дунаева к недавно вышедшемусборнику рассказов и очерков Наталии Евгеньевны Сухининой «Где живутсчастливые?» (Троицкий собор, г.Яхрома, 2006 г.) читаем: «Сухинина учит Православию. Не догматике, разумеется, и не церковным канонам - для того естьспециальные книги. Она учит православному постижению жизни на простых житейскихпримерах. А это-то читателю просто необходимо...». Это лаконичное - чёткое икраткое - выражение сути содержания сборника в полной мере может быть отнесенои к данной книге. Да сие и понятно, ибо один и тот же автор, подобные сюжетныеи стилистические особенности.
СвятоеПравославие - не просто доктрина (хотя и ей отводится место), которую можнобыло бы легко свести к определённым понятиям и ограничить системой. Православие- это духовная жизнь, духовный путь, жизнь по заповедям Божиим, поклонение БогуДухом и Истиной; познаётся оно в подвиге - на опыте, как и вкус пищи познаётсявкушением, а не исследованиями её. Как бы мы ни старались красиво и мудропостроить схему Православия - врачевать мир, преображать его, наполнять доброми отрадой, будет не схема, а образ верным.
Непреходящаяценность свидетельств Наталии Евгеньевны в том, что она с глубокой верой вПромысл Божий и бережным отношением к человеку подмечает то, что для многих неявляется чем-то значительным, да и просто не замечаемым в их постоянной житейскойсуете, в приземлённости, она проникновенно, художественно, необыкновеннотепло, как-то по-родному описывает то, что видела, о чём слышала, с чем соприкоснулась.Рассказы Наталии Сухининой - это не отвлечённые трактаты, высушивающие мысльили претендующие на некую учёность, а раскрытие того, что нас окружает,волнует, беспокоит, что рядом с нами, а может быть - и в нас самих.
Передмысленным взором читателя встают многие и разнообразные судьбы людей с ихгорестями и радостями, с их бедами и счастьем, с их покоем и терзающим душустраданием... Но автор вовсе не стремится найти во что бы то ни стало виновныхили возложить на них и без того тяжёлую ношу, а наоборот - он исполнен самогодоброго желания помочь им встать, терпеливо разделить с ними бремя и указать нато, что единственно верный и спасительный путь - в Святом Православии, там,где даются силы для борьбы и победы над тщеславием, гордостью, самопревозношением;там, где есть постоянная Небесная Помощь, где Сама Божия Матерь...- Она хранит«от отчаянья материнские сердца, всегда посылая им надежду»; Она простираетСвой Небесный Омофор над святыми обителями, благословляет наши города и веси«синевой чистого неба...» (См.: «Спасительница утопающих» и др.). - И невольновспоминается здесь призыв, обращенный ко всем нам, великого русского Пастырясвятого праведного Иоанна Кронштадтского (+1908): «Славь Россия, славь каждыйверный сын Церкви Небесную Заступницу свою, Матерь Божию, за матерниенепрерывные милости Её к России и к тебе. Только Её ходатайством Россия доселецела, могущественна, славна. Можно сказать смело, что если бы Россия всегдастрого держалась благочестия, если бы русские все были крепко преданы вересвоей и Церкви Православной, её величие и благоденствие возрастали бы из годав год, и мира её не было бы предела... Чего нам бояться бы тогда, имея ТакуюЗаступницу, Которой любовь и могущество не имеют предела?!»
Воспроизведениежитий Святых, как, впрочем, и другие описания, подаются настолько живо,жизненно, что невольно перестаёшь замечать окружающую тебя обстановку,забываешь сегодняшний день и переносишься в чарующий мир рассказчика. - Вместес преподобным Герасимом Иорданским живёшь в знойной пустыне, прикасаешься кране тихонько стонущего льва и более того, вместе с «царём зверей» не идёшь, абежишь на могилочку Преподобного… («Любовью зверя укротив»). С преподобнойМарией (назвавшейся Марином) исполняешься желанием послушно выполнять самыетяжёлые работы и усердно молиться «в сем лукавом и лицемерном веке» («Марин поимени Мария»). В общении с преподобным Симеоном Верхотурским уходишь «подальшеот мирских треволнений, подальше, подальше...» («Симеоном его зовите»). Или сматерью-подвижницей разделяешь тяжёлую ношу детской беды («Две жизни ЕвгенииРевковой»). Потрясающ своей жизненной правдой и вывод к этому рассказу: «Думатьо себе, конечно же, надо, но при условии, если больше не о ком думать».
Глубоконазидательно повествование о жертвенном подвиге дорогой всем нам святой Обителипреподобного Сергия Радонежского в Смутное время - и не только. Словно набатомзвучат мужественные слова смиреннейшего архимандрита Дионисия: «Братия!.. .Всёотдать надо, а уж сами как-нибудь...Чтобы избавить Русь от захватчиков,надлежит народу нашему собраться вместе. По отдельности не победить. А победитьнадо...» - И полетели из монастыря воззвания во все уголки родной земли...(«Сергиев послушник»).
Рассказчицатак же ведёт речь и о людях обыкновенных - таких, с которыми мы встречаемсячасто, которые нас окружают, на которых подчас похожи и мы сами, и одновременнопроисходящее в их жизни выступает как что-то необычное, понуждающееостановиться в нашем земном беге и глубоко-глубоко задуматься: зачем ты явилсяв этот мир, для чего ты живёшь в нём, несёшь ли тепло и свет, не станет ли тебегорько в конце своего земного пути за неисполненное высокое призваниехристианина, да и просто человека,} А что ждёт тебя потом - за порогом этогопути?! (См.: «Детская душа детского доктора», «Обуза », «Ты будешь братом моейжене », «Купе на двоих», «Брошка с мадонной», «Три красных розы в тонкомхрустале», «Десять дней в счёт отпуска», «Из молитв сотканная»...).
Авторухочется выразить благодарность за раскрытие Заповедей Божиих, причём - методомсамым доступным, наглядным, ярким и потому действенным! Хотя здесь и малорадости, больше горечи, но ведь большинство лекарств не сладкие! - «Все мывиноваты друг перед другом». И эта виновность просматривается не в каких-товеликих делах (мы их не творим), а, как правило, в мелочах, из которых и складываетсянаша жизнь. - «Мы прозреваем, мы хотим пойти за Христом и идём туда, где всеговероятнее встреча с Ним. В храм. И вот первое, что мы видим - искажённое лицохрамовой уборщицы, подтирающей пол. Ей наплевать, что вы прозреваете. Онатолько пол помыла, а вы ей опять грязищу. «И чуть ли не тряпкой в лицо:намазалась, платок-то надвинь, завлекать в ресторане будешь, ишь,вырядилась!.. » Или в бок во время службы: «Как стоишь?..» - Нужно лиговорить, к чему приводит такая «миссия ». - Суть Заповедей можно вместе с авторомсвести к одному: «Идти, освободившись от греха. И - не оглядываться. Неоглядываться. Иначе - беда...» (См.: «Не послушествуй на друга своего», «Непрелюды сотвори», «Не пожелай жены искренняго твоего»).
РассужденияНаталии Евгеньевны о гневе приближаются к наставлениям святых Отцов Церкви. -«Самое главное, чего не переносит гнев - молчание...Сожми губы имолчи...Трудно бывает смолчать... Неопровержимые аргументы зудят на кончикеязыка, кажется, произнеси я их, и они повергнут в смущение моего такого жеразгорячённого и красного от гнева оппонента. Обман! У оппонента своинеопровержимые аргументы» («Милые бранятся -только ли тешатся?»).
Всёвеличие материнского жертвенного сердца показано в рассказе «Чем глубжескорбь...». - Его можно было бы назвать и иначе: «Жизнь ради детей». - Прочитавэтот рассказ, мысленно поклонишься Елене и Людмиле и возблагодаришь Господа,что есть такие люди.